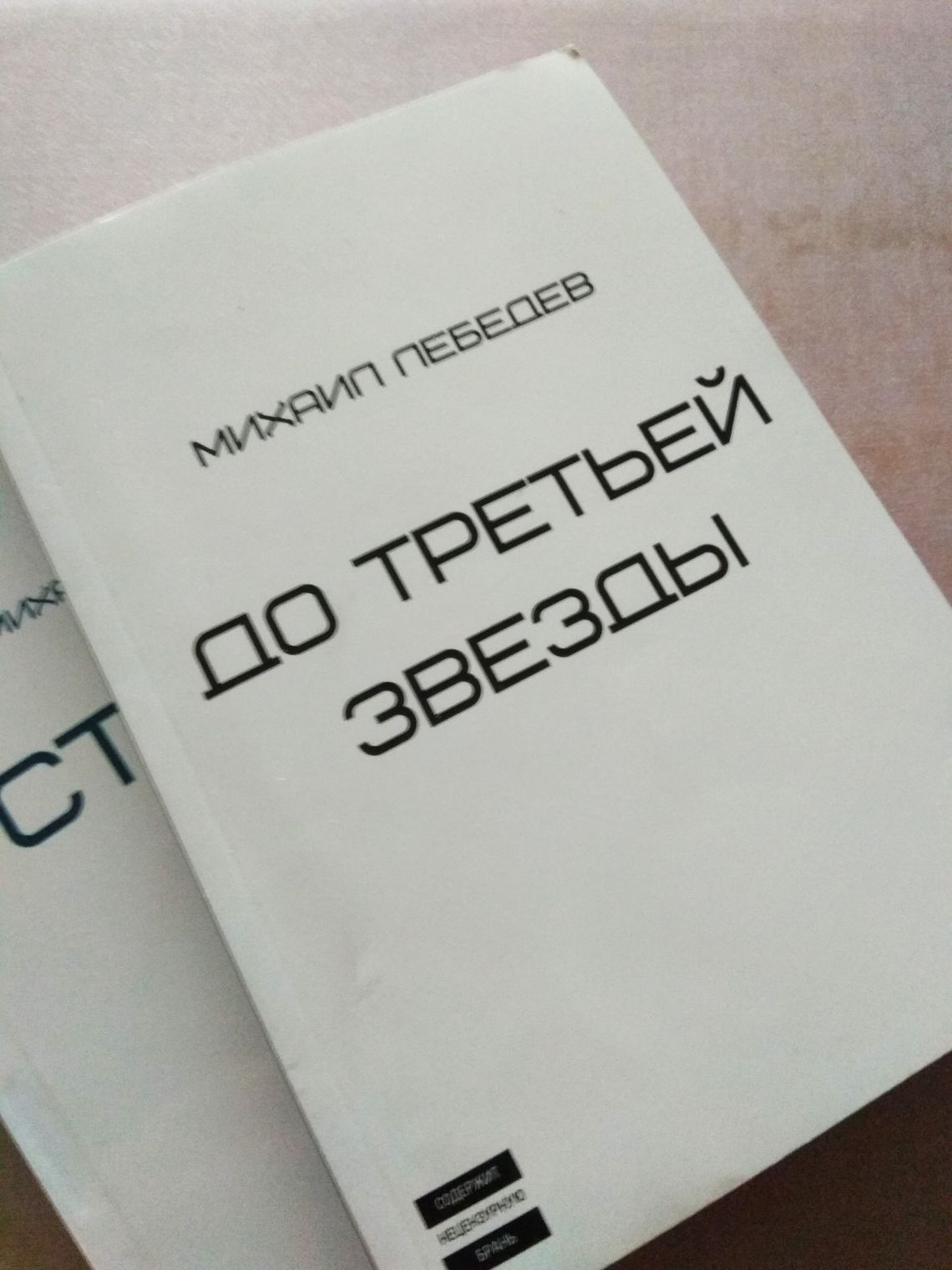
Михаил ЛЕБЕДЕВ "До третьей звезды"
Роман-предостережение 2020 года. Отдельные события, описанные в романе, легко сбылись в реальности...
К сожалению, в настоящий момент нет мероприятий.
-
Михаил ЛЕБЕДЕВ
ДО ТРЕТЬЕЙ ЗВЕЗДЫЧитать и скачивать на Автор.тудейЧитать и скачивать в формате pdfЧасть перваяДни затмения"И мне дано понять, что, пока я сижу в этой щели, меня не тронут. Даже ещё страшнее:меня отделили от человечества, как отделяют овцу от стада, и волокут куда-то,неизвестно куда, неизвестно зачем, а стадо, не подозревая об этом, спокойно идёт своимпутём и уходит всё дальше и дальше…"Аркадий и Борис Стругацкие. За миллиард лет до конца светаГлава 1СтольниковНочью приходил заяц. След рассказал, что пришёл он от Амосовых, покормился под двумяяблонями, сделал пару скидок и убежал вдоль забора к домику сторожа.«Опытный, — отметил Стольников, прикуривая сигарету. — Там собаки на привязи.Развлекался. Петли, что ли, поставить?»Знал Николай, что петли на зайца ставить не будет: лень, да и не ставил их никогда, только встарых охотничьих журналах читал, когда был молод, азартен и имел два ружья. Кромеружей, имелась короткая компания друзей-товарищей, с которыми хорошо было выезжать наприроду: весной на утку, а по снегу — на боровую дичь.Зайцев тоже стреляли, бывало, но редко и по случаю. Зайца с гончей нужно брать, а собак уних как-то не завелось, хоть и мечталось. Да и привозили с тех охот по паре птиц в лучшемслучае. В азарте отстоять зорьку, расстреляв впустую патронташ по редко налетавшим уткам,да у костра вечером посидеть под рюмку-другую-третью со старыми приятелями — вот и всёудовольствие. И немалое удовольствие, если вспомнить.Жёнам только непонятное — ну да им и футбол непонятен был, и рыбалка, и давнозаброшенный преферанс. Хорошо, что в природе всё правильно устроено, строго по гендеру.Мужчина в торговом центре, тоскливо сидящий с кучей пакетов у примерочной, столь женелеп, как и женщина, выпивающая у костра разбавленный спирт под чёрный хлеб с салом.Большинство друзей-товарищей остались в прошлом. Или вообще уже там, где все мы когда-нибудь будем. Старая горизонталка пылится дома в сейфе, не чищенная уже года три. А зря.Сюда бы её привезти: тихо на дачах пока, но бережёного бог бережёт — в прошлуюэпидемию обошлось, да кто знает, как всё обернётся в нынешнюю. Зайцы опять же.Стольников дошёл до мангала, выбросил бычок в припорошённые снегом угли.«Скоро совсем завалит, — идя по тропке к избе, думал Николай. — Да и хорошо: лопату вруки, чтоб вспотеть, — и в итоге ровные дорожки с сугробами по краям, морозец подтридцать, натопленная изба — красота. Так и до Нового года дотянешь опять. Жена приедет,Лена порадуется уличной ёлке. Гирлянду бы проверить, игрушки посмотреть. Ладно, завтра».В прогретой с вечера избе Стольников умылся, лениво наблюдая в зеркале надоевшее лицо вбороде с изрядной уже проседью, поставил в микроволновку вчерашнюю картошку стушёнкой, достал из холодильника ополовиненную бутылку, включил телевизор. Плейбук зазавтраком читать неудобно, проще полюбоваться официальной действительностью: подспирт нормально заходит, практически как новости из «Звёздных войн». Смешно истрашно — не у Джорджа Лукаса, понятно, а у Фёдора Земскова. Оба фантазёры. Жаль, что увторого фантазия обратилась реальностью. Но сколько осталось тех, кому жаль?Николай налил рюмку, махнул под картошку с телевизором. Там красивая женщинарассказывала о гениальных инициативах вождя на совещании глав Двенадцати. Лидерымировых держав обсуждали объёмы помощи странам третьего мира в наступившую эпохупандемий. Земсков сообщил, что Четвёртая вакцина, разработанная в Новосибирске,оказалась ещё эффективнее Третьей. И что мы опять готовы её поставить Бразилии, Индии иАфрике. Практически бесплатно. «Практически», — дикторка пыталась интонационносовместить сердобольность к падшим и презрение к внешним осквернителям историческойпамяти. Странно, но у неё получалось.Остальные главы стран дюжины вежливо слушали с каменными лицами. Выпуск перешёл кновостям Первой Антидопинговой Олимпиады: в Иркутске корейцы выиграли парный заездв буере, в Томске местная спортсменка стала победительницей по сольному дельтаплану. Вобщем медальном зачёте Россия оторвалась от Абхазии уже на тринадцать очков.Стольников налил ещё рюмку за победу российского спорта. Про то, что Бразилия с Индиейснова вежливо отказались от российской вакцины, вчера написали в плейбуке. Почти уже безиздевательских интонаций: Россия опять в жопе со своей вакциной, а на Румыниюобрушился снегопад. Стабильность.Зазвонил телефон.— Коля, баню топишь сегодня? — голос Рымникова завывал, как метельный ветер в печнойтрубе. Связь барахлила третий день.— Затоплю, если хочешь.— Давай, топи. Приедем с Лёхой через пару часов. Что привезти?— Ага. Значит, масла подсолнечного, пива, сала можете взять, закуски какой. Мясо есть,сейчас замариную. Выпивку по личным предпочтениям. А так у меня имеется, ты в курсе.— Понял. Всё, жди.Вася Рымников никогда и никуда не добирался в оговорённый им самим же срок. Ещё винституте его прозвали Опоздайка. Как-то там он рифмовался с Апдайком в большойфакультетской поэме, которая досталась им от старшекурсников. Фольклорная летописьфакультета полулегально велась несколькими поколениями студентов. Прозвища, означенныев ней преподавателям, прилипали к ним намертво и вполне могли присутствовать намогильном камне наряду с фамилией и датой смерти: «Владимир Сергеевич (Таракан)Стрельченко. 19..–20..»Стольников не знал, жив ли сегодня бывший завкафедрой русской литературы Таракан.Скорее уже нет, чем ещё да. Сколько ему было, когда они отметили в поэме его тараканьиусы? Лет тридцать пять, наверное. В принципе, мог бы и жить ещё, но Первая пандемиявыкосила многих пенсионеров, да и Вторая была ничуть не заботливее. Так что вряд ли.Не самый вредный мужик был этот Таракан — по слухам, едва ли не он сам зачиналпамятник факультетской андеграундной культуры ещё в своём студенчестве. Сколько летпосле нас просуществовала «Педагогическая поэма»? Неизвестно. Время менялосьмедленно, но необратимо. Может, и сейчас она хранится на каком-то забытомнелицензированном носителе, кто знает. Ябпочитал, как говорили когда-то в свободныхинтернетах, да кто ж тебе даст.Николай достал из холодильника добрую часть свиной шеи, порезал на порционные куски впол-ладони, слега отбил тыльной стороной лезвия тяжёлого ножа, щедро посыпал специями,купленными на рынке у знакомого узбека, добавил лука и ломаного лаврового листа, крепкоперемешал мясо в кастрюле, накрыл крышкой. Никакого, прости господи, уксуса, сухоговина или кефира. Мясо должно быть мясом, а не сопливой декадентщиной. Рубленыйнатурализм Маяковского против унылого акмеизма Ахматовой. Так победим.Почему-то тогда все они исповедовали Маяковского. Лёшка Куницын однажды прямо налекции сцепился с Тараканом, который недоумевал, как можно себя чистить под Лениным?Ясно, что в метафорах Лёшка понимал чуть более вялой весенней мухи, кружащей ваудитории, но спорил яростно, напирая на революционность формы, а не содержания.Таракану спор с безграмотным неофитом быстро надоел, и он отправил Куницына в коридорпроповедовать птицам и первокурсникам.Никому уже не интересен Маяковский. Все переболели чужими и своими стихами, вырослииз возраста и времени надежд, когда рифма обнажала и уточняла мысль, не довареннуюпрозаической частью организма. Когда строчки в столбик выплёскивали смыслы, бродившиевнутри тебя и снаружи тебя. Тебя и других.Хорошая книжка получилась у Лёшки — единственного из нас, кто решился предъявитьпублике свои пьесы, раз и навсегда прояснить, графомания это или нечто большее.Оказалось, что нечто большее, если верить паре благожелательных столичных критиков. Номы и без них это знали, и Куницын знал, но у него к тому времени намечалось слияние споглощением конкурентного бизнеса, которые не оставляли времени и места для каких-тотам пьесок. Кончился бизнес закономерным итогом. Но хоть книжка осталась.Так-то у всех что-то осталось нестыдное в анамнезе: сборник драм и комедий, либеральнаягазета, политический опыт. Юность нестыдная была, молодость, любовь какая-никакая. Грехжаловаться, в общем. Итог не очень хорош, понятно, но у кого он сегодня хорош изпоколения, потрёпанного дарованной свободой и закатанного в угрюмость нынешнегобытия?До приезда гостей, по прикидкам Стольникова, оставался час. Он наколол на щепу полено,оторвал пласт бересты и разжёг мангал. Баню решил затопить позже — всё равно вначале застол, а там уж как пойдёт. Открыл плейбук, сделал запись, закрыл.Старенький «Фольксваген» Рымникова прибыл на удивление почти в оговорённый срок — тоесть с опозданием минут на пятьдесят. Из тёплого салона, застёгивая куртку, выбрался подлёгкую метель Алексей. Василий, весело сверкнув очками, вынул из багажникапозвякивающие пакеты с городской снедью. Обнялись.— Чего задержались-то? — Николай подхватил у Рымникова пару пакетов и первымдвинулся по тропке в сторону дома.— Ты Опоздайку не знаешь? — ответил в спину Куницын. — Вначале он ко мне на полчасапозже приехал, потом потащил зачем-то на Хитрый рынок, хоть по пути магазинов навалом.Чисто Земсков.— Я опаздывать начал, когда вождя твоего никто в лицо не знал, — Василий стряхивал снег сботинок, долговязо разуваясь под вешалкой. — Наговариваешь ты на меня, Лёшенька. Тапкигде, Коля?— Вон, мои возьми. Я в валенках пока, всё равно сейчас идти дрова в баню подбрасывать.Давайте, чего у вас там из холодных закусок, на стол. И напитков. Я сейчас картошку с мясомметну.Поляну накрыли быстро, по-мужски: помидоры пополам, огурцы повдоль, соль отдельно.Сало толстыми ломтями, хлеб, мясо и рюмки. Вроде всё. А то салаты какие-то ещё, простигосподи. Выпили за встречу: парни закупились акцизной водкой, потратились. Потом ещё поодной под горячее.— Ладно, пойду баней займусь, — Николай вышел, впустив в избу небольшое облакохолодного пара внешнего мира.Рымников включил телевизор, там в записи вчерашний «Спартак» мучился с «Росгвардией».Результат известный — 1:1.— Ты ему скажешь или я? — спросил Василий.— Ну, давай я.— Сразу надо было. Как вот теперь?— Как-нибудь. Язык не поворачивался. Да и какая разница.Сидели молча, наблюдая, как «мусора» возят «мясных». Стольников вернулся, сбросил упечки охапку поленьев.— Через двадцать минут готова будет. Давайте ещё по одной.— Давай, — Василий наполнил рюмки, посмотрел на Куницына.— Предлагаю за Лену твою, — в большой мужицкой лапе Алексея хрусталь смотрелсянелепо. — Взяли её вчера.Николай выпил на автомате, и вместе с холодной водкой падала в судорожный желудокединственная спасительная мысль «врут, розыгрыш». И тут же растворилась в неизбежномпонимании «не врут». А потом постоянно всплывало рефреном «вот тебе и Новый год», «воттебе и Новый год».— Как? — вопрос не в смысле риторики и эмоций, а чисто технический. «За что?» давно ужеспрашивать было бессмысленно — хоть Бога, хоть человеков. Оставалась конкретика.— Вроде бы дома поздно вечером, как обычно у них, — Алексей говорил спокойно, даже,казалось, флегматично. — Блокировка, обыск, арест. Юра рассказал на рынке.— Торгует?— А что ему остаётся? В четырёх стенах сидеть?— Да понимаю я, это так.Рымников налил всем, поёрзал на стуле, выпил.— Позвонил одному вхожему. Может, завтра-послезавтра расскажет чего.— Хорошо.Куницын поднял рюмку:— За Лену. Как-нибудь всё... От меня тут толку, сам понимаешь.— Понимаю. Давай.Чокнулись. В телевизоре футбол сменился конкурсом патриотической песни «ГолосРодины». Юноша из Рязани чистым лемешевским тенором пел что-то про берёзовый сок.Очень душевно пел, закрывая глаза от переполнявших радостных чувств. Нет, не от чувств —просто слепой от рождения. Жюри было в курсе.— Ладно, шагайте в баню, — Стольников выдал приятелям из холодильника две бутылкипива. — Я не пойду.Рымников с Куницыным понимающе приняли пиво и пошли парить сочувствующие тела.Николай выключил телевизор и попытался отключить эмоции, чтобы найти выход из давно итоскливо ожидаемого провала надежды на лучшее. Выхода не было — он знал — простоследовало зацепиться за какую-то реперную верёвку, чтобы не рухнуть в пропасть конечногофинала. Суицидальная статистика в России била все европейские рекорды последнегодесятилетия: ролики с убедительной статистикой на этот счёт во множестве можно былоувидеть в плейбуке — не в телевизоре, понятно.Леночка родилась третьего января, и с тех пор Новый год у Стольникова длился три дня,независимо от срока назначенных правительством каникул для трудящихся. «Ребёнок-праздник», — называла её Юля, первая жена: и за дату рождения, и за яркий, искристый,смешливый характер.После развода ребёнок-праздник оправдывал свой семейный титул во время еженедельныхвстреч с Николаем. Леночку смешило всё: белки в парке, мороженое в кафе, звонок телефона,лужа во дворе. Дома они вдвоём бесились так, что соседи укоризненно качали головами привстрече.Потом Стольников женился на Рите, а у Леночки появился отчим Юра, Юрий Пермяков,ведущий инженер на заводе строительных пластмасс, ныне пораженец. Ребёнок-праздникумудрился всех примирить и подружить вокруг себя. Пару раз и Новый год встречалисемьями («вот тебе и Новый год»), а уж день рождения Леночки — обязательно.Дочь росла, Николай писал смелые статьи в своей газете, но ощущение праздника стиралосьто ли взрослением Лены, то ли тускнеющим временем. Стольникову долго хотелось верить вто, что время здесь ни при чем — просто ребёнок-праздник вырос во взрослую красивуюдевушку, для которой друзья и свойственные возрасту влюблённости закономерно сталиважнее отца. Наверное, и это тоже, но вместе со взрослением дочери менялся мир вокруг, именялся много быстрее, чем Лена.Николай точно знал, когда ребёнок-праздник окончательно исчез, превратившись всамостоятельную единицу взрослого человеческого мира. Юля умерла, когда дочериисполнилось двадцать. Умерла внезапно от обычного инфаркта, задолго до всей этойпечальной нынешней вирусной чехарды. На похоронах — тогда ещё можно было хоронитьпо-старому — Лена была окаменевшей, как мёрзлая могильная земля. Весной земля оттаяла,могила обычным образом просела. Стольников с Юрой могилку поправили, а Ленупоправить до конца так и не смогли.Рита править её не могла и не хотела, просто приняла Лену новую, жёсткую, сильную.Приняла и отогрела. Смогла то, что не получилось у Стольникова. Рите было проще, онане знала ребёнка-праздника до знакомства с Николаем, не могла помнить ту маленькуюбелокурую бесятину, которая была и осталась лучшим в жизни Стольникова.А жизнь катилась привычной колеёй: Николай дорос до главного редактора, у Юры на заводекарьера тоже ладилась, Рита наконец защитила кандидатскую по теме истории брежневизма.Но вокруг уже постепенно что-то рушилось, осыпалось под давящим грузом тяжёлойвсеобщей могильной плиты. Официально осуждаемая, но фактически возрождённая цензураделала работу Стольникова всё более бессмысленной, бизнес Куницына благополучноприбрали к рукам новые люди с холодными глазами и правильными удостоверениями,депутатство Рымникова благополучно завершилось после команды сверху на зачисткуместного политического поля.Первые пораженцы появились вскоре после Новой Конституции. Никто не знал принципаотбора: человек жил обычной жизнью, растил детей, ходил на службу, смотрел сериалы, нооднажды к нему приходили люди в неприметной одежде, предъявляли постановлениекомитета по правам граждан, проводили ленивый обыск, навечно блокировали доступ кинтернету и мобильной связи, знакомили под роспись с положением, исключающимвозможность пораженца избирать и быть избранным в любые органы власти, вежливопрощались и отправлялись дальше по своим строгим государственным делам.Поначалу включилось возмущение плейбучной общественности и сдержанное осуждениезападных правительств. Но Западу лидер нации напомнил о Великой Отечественной иПервой пандемии, а плейбучным активистам и прочему населению телевизор рассказал, чтонезначительное поражение в правах мизерного количества не вполне сознательных гражданнаправлено на повышение качества избирательный системы. Что же касается самихпораженцев, то они остаются в общем и целом такими же россиянами, как и остальные.Иметь свои взгляды на окружающую действительность волен каждый, но нужно иметь имужество понимать, что эти взгляды категорически не разделяет подавляющее числожителей страны, и спокойно принимать факт отлучения от социальных сетей. Деды не зналиинтернета, а сломали хребет фашистской гадине. Вот и всё, вот и не надо тут. Живите себедальше, работайте, плодитесь и размножайтесь. А не хотите — пойдёте этапом висправительный лагерь согласно полученному статусу, доказывать своим трудом полезностьи преданность обществу.«И животноводство», — шутил тогда из Стругацких под телевизор Куницын. Через парумесяцев Лёшку поразили в правах. Потом Юру и вскоре Леночку.Лена к тому времени давно жила отдельной взрослой жизнью — снимала квартиры нагородских окраинах, регулярно меняла работу. То пропадала на несколько месяцев, тообъявлялась неожиданно и могла несколько дней жить у Стольниковых. Леночка с Ритойподолгу за бутылкой вина обсуждали романтические отношения дочери с мужчинами,выгоняя Николая с кухни. Он не возражал, был счастлив присутствию Лены в доме, еёотношению к жене как к подружке.Дочь уходила, и тогда Рита рассказывала то, что Стольникову знать следовало. Не всё,конечно, но он и этому был рад. Через Риту же передавал невеликие деньги, когда Ленупоразили в правах. Официально вынесенный приговор не считался основанием дляувольнения с работы, но любой руководитель понимал политику партии и правительстваправильно, и рекрутинговые агентства понимали, да и сами пораженцы. У мусорных баковпоздними тёмными вечерами выстраивались очереди из стеснительных людей. Некоторыедержали за руку ребятишек.Юра, потеряв работу, поначалу, как нормальный русский человек, запил. Лена жалелаотчима, но навещать его перестала. Он иногда приходил к Стольниковым относительнотрезвым, жадно глядел, как Николай разбавляет спирт, и, стоило Рите выйти из кухни, тут жеумоляюще подмигивал Стольникову и показывал дозу промежутком между большим иуказательным пальцем. Николай жалел, наливал. Потом ужинали, разговаривали о Лене и ожизни в целом, затем Юра вдруг резко отказывался от очередной налитой рюмки, вставал инетвёрдой походкой уходил в ночь.Через полгода сумел выйти из цикличного алкогольного состояния. Стал разводить кроликовна даче, но как-то с животноводством у него не заладилось. Но завёл в тот период знакомствов мясных рядах Хитрого рынка и теперь торговал там бараниной фермера из отдалённогорайона области. Тот честно с Юрой рассчитывался раз в месяц, что для пораженца моглосчитаться достижением вершины успеха. И с Леной отношения у него наладились, изарабатывал теперь он в иной месяц больше, чем Николай своими внештатнымипубликациями, даром что пораженец. Юра, выходит, и узнал первым об аресте Леночки.— Подниметесь? — больше для порядка спросил Николай, когда Рымников остановилмашину возле подъезда.— В другой раз, Коля. Держитесь там, — извинительно пожал плечами Алексей.— Звони. Рите привет, — подтвердил Рымников.— Ладно, пока.Стольников сел на лавочку, прикурил сигарету. «Вот тебе и Новый год», — рефренне отпускал. «Знает Рита или ещё нет?» — это был второй рефрен. Докурил, поднялся налифте, думая о том, что сегодня воскресенье и жена должна быть дома.В прихожей на комоде под зеркалом, куда Стольников всегда бросал ключи от квартиры,лежал сложенный вдвое лист бумаги, на котором было написано Ритиным почерком: «Коле».Он понял всё ещё до того, как зашёл в комнату и увидел висящие над полом ноги Риты восенних сапогах, которые они вместе покупали в конце сентября.Запись Стольникова в плейбуке. Статус «Только я».«Хронология года.Март: заболел отец. Май: Третья пандемия. Июнь: уволили с работы. Сентябрь: дочьзанесли в пораженцы (или пораженки, как там по новой этике?). Октябрь: умер отец.До конца года ещё три недели. Всего три недели. Ничего, как-нибудь.ПЛАНПо привычке кончается год,по привычке закуплены свечи,и коньяк, и болгарское лечо,шпроты, мясо, что на антрекот.По привычному ходу вещейближе к празднику строятся планы:уничтожить в себе графомана,больше кушать сырых овощей,быть воздержанней в резких речах,матом не разговаривать в среду,одержать небольшую победунад собой в разных там мелочах,помириться со старым дружком,поменять телевизор на даче,стать добрее, мудрее, богачеи пешком на работу, пешком!Поумерить себя в литражеалкоголя в конкретное тело,больше спать... Свёрстан план до предела.Только тромб шевельнулся уже».Глава 2Лена— Шабашим, девки, — бригадирша Вера всегда точно чувствовала время. — Покурим догудка минут пять, норму вроде выполняем.Опиловщицы отложили напильники, потянули из карманов роб пачки сигарет. Два поддонарядом с обитым металлом длинным столом с прикрученными тисками тускло отсвечивалировными рядами корпусов манометров марки А-120.Подкатил на погрузчике неунывающий Пашка Окунь, бывший школьный завуч. Опустилподдон с новым заделом работы, хохотнул:— Пламенный привет от литейщиков, тётки! Опять тропики, везёт вам.— Тропики — это хорошо, Окунь, — согласилась Вера. — Забирай продукцию, ОТКпроверила.— Нормально вы талонов нынче поднимете, — карщик запустил вилы погрузчика в нижнийподдон, поднял, развернулся. — Шампанского много за обедом не пейте.— Обрыдло уже твоё шампанское, — дежурно отшутилась бригадирша.Весёлый Окунь покатил в сторону покрасочного цеха.«Хорошая смена, талонов двадцать к вечеру выйдет, — лениво прикинула в уме Лена,докуривая «Приму». — Двадцать талонов — десять пачек сигарет в обменнике. Столько ине нужно, ещё и на тампоны останется. Хорошо, что тропики второй день идут».Опиловщицы не знали, что такое «тропики». Понятно, что А-100 — маленький манометр, А-120 — большой, на котором и больше подтёков металла после литейного цеха, которыестачивала напильниками бригада. Манометр в тиски — пройтись грубым драчёвым,подобрать основные дефекты личнёвым, шлифануть бархатным. Пять минут — и корпусготов к последующей покраске. И опять драчёвый, личнёвый, бархатный, драчёвый,личнёвый, бархатный, драчёвый, личнёвый, бархатный. Работа как работа. Талоны опятьже — пусть не такие, как у револьверщиков с фрезеровщиками, но жить можно.А иногда в работу привозились манометры с фиолетовым клеймом «экспорт» или с жёлтым«тропики». Первые оценивались вдвое к обычным, вторые — втрое. Считалось, что к такойпродукции относиться нужно более тщательно, но ОТК не шибко придиралось, процентвозвратного брака был примерно таким же, как обычно, а талонов за ту же работуприбавлялось. На какой экспорт, в какие такие тропики могли отправляться эти манометры,изготовленные по древним советским технологиям, Лена не представляла, да и представлятьне хотела. Талонов на круг выходило больше, а другой валюты на посёлке не было и бытьне могло.Гудок к обеду накрыл гулкий шум механического цеха. Бригада побросала окурки в ящик спожарным песком и потянулась в сторону раздевалки, где в металлических шкафах виселизимние бушлаты. Столбик термометра в трудовом поселении Звезда-3 сегодня показывалминус 32 градуса.Когда смена уже подходила к концу, на опиловочный участок заглянул мастер. ДедНикодимыч одышливо осмотрел пару корпусов с поддона готовой продукции, подошёл кЛене: «Стольникова, к начальнику цеха». Девки нахмурились — дневной план бригаде никтоне отменял, — но смолчали: каждую могут дёрнуть к цеховому, и не грамоту вручать, а нанеприятный разговор. Приятных разговоров с исправленцами у граждан начальниковне бывает.— Садись, Стольникова, — начальник цеха тонким пальцем ткнул Лене на стул дляпосетителей, кивнул мастеру на соседний. Лена села, с рукавов робы на полированный столпосыпались крупинки металлических опилок. Никодимыч, деликатно кряхтя, устроилсянапротив, глянул в глаза коротко, непонятно.— Как она? — спросил начальник у мастера. — Кури.— Старательная, план выполняет, — Дед Никодимыч достал из кармана пачку «Космоса»,закурил сам, протянул сигарету Лене, щелкнул зажигалкой. Пальцы у опиловщицы чутьдрожали. — Замечаний нет.Начальник кивнул, придвинул к себе бумагу на официальным бланке, надел очки. Он был сери невзрачен до неприметности: тень отца Гамлета на его фоне казалась бы рыжим цирковымковёрным.— В вашу секцию сегодня заселена Лечинская Нина Яковлевна, 37 лет, русская, статусобщий, — в глаза цеховой не смотрел, смотрел в документ. — На соседнюю с тобой койку.Работать станет на зенковке, ваш участок. Приказано назначить тебя опекуншей. Условиязнаешь — год минус.— В отказ, — Лене хватило пяти секунд на принятие решения.Начальник поверх очков глянул на опиловщицу, затем на мастера. Никодимыч пожалплечами — его мнения заранее никто не спрашивал: у начальства свои оперативные дела,зачем-то сплетённые с производством. Цеховой был в звании майора, а мастер — в общемстатусе, до завершения срока которого оставалось три месяца, и прожить их хотелось безконтактов с органами внутренней опеки.Начальник цеха снял очки, положил бумагу в отдельную папку, убрал её в стол. Нервнозевнул, заметил Лене:— Смотри, твой выбор, тебе жить. Год плюс, сама понимаешь. Завтра опека выпишет.Свободны.Спустившись по лестнице к курилке у больших металлических ворот механического цеха,Никодимыч сказал:— Не спеши, покурим, — распечатал новую пачку сигарет, угостил Лену, пачку крутил вруках. — Сколько оставалось, полтора?— Год и восемь.— Терпи. Через неделю свыкнешься.Лена молчала, курила. Годом больше, годом меньше. Она давно решила не загадывать просвободу: никто не знает свой срок, кроме того, кто этот срок выписывает — не на земле,выше. А срок заключения внутри отмеренного земного срока — всего лишь разновидностьспособа существования: кому-то на премьеру в оперу ходить, кому-то в зоне стороной оперовобходить. Кому как повезёт. И какая ещё, нахрен, свобода? Кто её видел? Дед с родителямизастали вроде бы, рассказывали что-то такое. Отбывает, поди, отец-то на какой-нибудьЗвезде-6. Маму с дедом зона обошла, не успела принять. Остались на свободе, все там будем.— Пойду я, Никодимыч, — голос Лены звучал ровно. — Смена кончается, построение скоро.— Ступай, — мастер сунул опиловщице только что вскрытую пачку «Космоса».— Спасибо.Сменный мастер зоны-поселения Звезда-3 Дед Никодимыч грузно шагал по механическомуцеху к своей стеклянной рабочей будке и думал о том, что ещё лет восемь-десять назад он бывполне мог пригласить эту симпатичную Стольникову в ресторан с дальнейшим привычнымходом вещей. А тусклого начальника цеха в том же кабаке прополоскать головой в унитазе.Потому что был тогда нынешний майор вохры молодым пехотным лейтенантом послеобщевойскового училища, а Геннадий Никодимович Конев — совладельцем и генеральнымдиректором крупнейшего сталелитейного холдинга на Урале.Но всё сложилось как сложилось, и нынешний Дед Никодимыч, исправленец общего статусас третьим допуском доверия, отбывал срок ровно, выполняя поставленные начальником цехапроизводственные задачи, смысла которых унылый мудак, вовремя сменивший военнуюмасть на ментовскую, не понимал даже приблизительно. Оттого где-то глубоко внутриНикодимыча шевелилось к цеховому презрение профессионала.А Лена Стольникова напомнила ему жену в молодости сразу, как только пришла с воли наопиловку полтора года назад. Та тоже, уверен был мастер, отказалась бы от сотрудничества сопекой и тоже потянула бы по строптивости лишний год. Жаль.Гудок окончания смены застал Лену на полпути к опиловочному участку. Развернулась,пошла в раздевалку чистить блестящую въевшимся металлом робу жёсткой одёжной щёткой:в жилом корпусе стирка была разрешена два раза в месяц, и если надевать бушлат сразу нарабочую одежду, то через неделю опилки станут его неотъемлемой собственностью: бушлатже не постираешь. Таким важным мелочам свежих, только с воли, опиловщиц в бригадеучили сразу. Кажется, давным-давно, а всего-то полтора года прошло.Подтянулись девки, ничего не спросили: без злобы, просто не принято интересоватьсярезультатом вызова к начальству — вдруг вынудишь человека врать да выкручиваться. «Непо понятиям», — говорила опытная Вера, однако тёртых жизнью тёток в бригаде за всё времяЛениного срока больше не появилось, потому Лена оставила за собой право на определение«не принято». Такого «не принято» здесь было немало, но правила поведения усваиваютсябыстро. Никому не хочется быть вызовом обществу, фриком, выражаясь по-старорежимному.Бригадирша сама нарушила общественную норму:— В порядке?— Да.Кивнула, отошла. Это ничего, Вере можно. Это приемлемо, так почти принято, если бригадири если только этим и ограничишься. Иначе недолго решить, что стучишь на опеку.Собрались, оделись, вышли на мороз, построились по бригадам. Вохра прошла вдоль рядов,прозвучала команда «Механический, пошёл!». Бригады разными по численности колоннамипо двое зашагали к открытым заводским воротам, за которыми их пути-дорожкирасходились: у храма большая часть исправленцев сворачивала налево, в мужскую жилуюзону, меньшая — направо, в женскую. На стоянке у проходной автобусы ждали вольных, греясибирскую зиму выхлопами моторов, кутающими окружающее пространство в тяжёлую ватутёплого тумана. В ближнем к воротам автобусе сидел начальник механического цеха майорТочнин, читал плейбук, в котором он был зареген под никнеймом Гордей Точный.В своей, женской части городка бригада дошагала до обменного пункта. Мороз не мороз, аотоваривать талоны лучше каждый день. Входили в стылый, но плюсовой обменник по двое,согласно режимному распорядку. Отоварившиеся по выходе из помещения вновь строились вжидкую колонну, суча валенками в ожидании дальнейшего движения.Мимо не спеша проходил патруль. Овчарка лениво гавкнула в сторону опиловщиц, мусора вгрязно-белых полушубках свернули к обменнику, пошли вдоль строя. Старший, пожилойбурят из местных, опустил овчинный воротник, вглядываясь в зябкие женские фигуры,отцепил от пояса пээрку. Прошёл почти до конца колонны и, когда показалось, что в этот разпронесёт, выдернул из строя тётку Олю, стоявшую в паре с Леной, с коротким замахомударил два раза резиновой палкой с выдохом: «На, сука!» В снег упал кулёк с пряниками,собака сорвалась в захлёбывающийся лай, инструктор потащил её, взвизгивавшую, дальше, вметельный снег по зоне.Тётка Оля собрала пряники, рассовала по карманам, те, что не вошли, сунула Лене. Таспрятала три пряника за пазуху — в жилухе отдаст. Магазинные пакеты для обменноготовара исправленцам были запрещены.Жилая секция опиловки вмещала двенадцать коек, по количеству членов бригады иприданных зенковщиц. По меркам городка, более чем комфортно, даже уютно. Снимаябушлат у входа, Лена сразу увидела новую соседку, лежащую на соседней с Лениной кровати,вспомнила: Лечинская Нина. Чернявая, стройная, с продублённым морозом лицом. С ней онабудет теперь делить тумбочку и одёжную стойку.Подошла к кровати, села. Соседка тоже отложила книгу писателя Проханова, вежливооторвала голову от подушки, села напротив. Разговор первым начинает входящий в секцию,так принято.— Лена.— Нина.— С воли?— С двойки.Подошла бригадирша, цепким взглядом отрентгенила свежую, подсела на кровать к Лене:— Скинула серый?— Да, теперь на общем, без доверия.— Как там, на Звезде-2?— Терпимо. Не чёрный статус, слава богу, не пятёрка. Обычный лесоповал. А тут рабочаязона — завод вроде?— Завод. Кем записали?— Зенковщицей.— Умеешь?— Не знаю, ни разу не пробовала.— Шутишь, это хорошо. Мы тут мирно живём — все в одном статусе. На доверии я и ещёдвое, но это так, случайно. Опекунш нет. И, надеюсь, не будет, да?— Не будет.— Вот и славно. Ладно, обживайся. Ленка тебе про работу расскажет.Лене свежая понравилась сразу после отсылки к анекдоту «Изя, вы умеете играть нарояле?» — «Не знаю, ни разу не пробовал». Он как-то сразу всплыл из раннего детства, издавно забытых посиделок отца с друзьями.— Там просто всё: привезут корпуса из литейного с отверстиями, будешь эти отверстиязенковать — ну, рассверливать под крепёж — на станке с вертикальным сверлом. В общем,завтра за полдня научишься. По нормировке не так чтоб богато, но без талоновне останешься. Куришь?— Бросила


