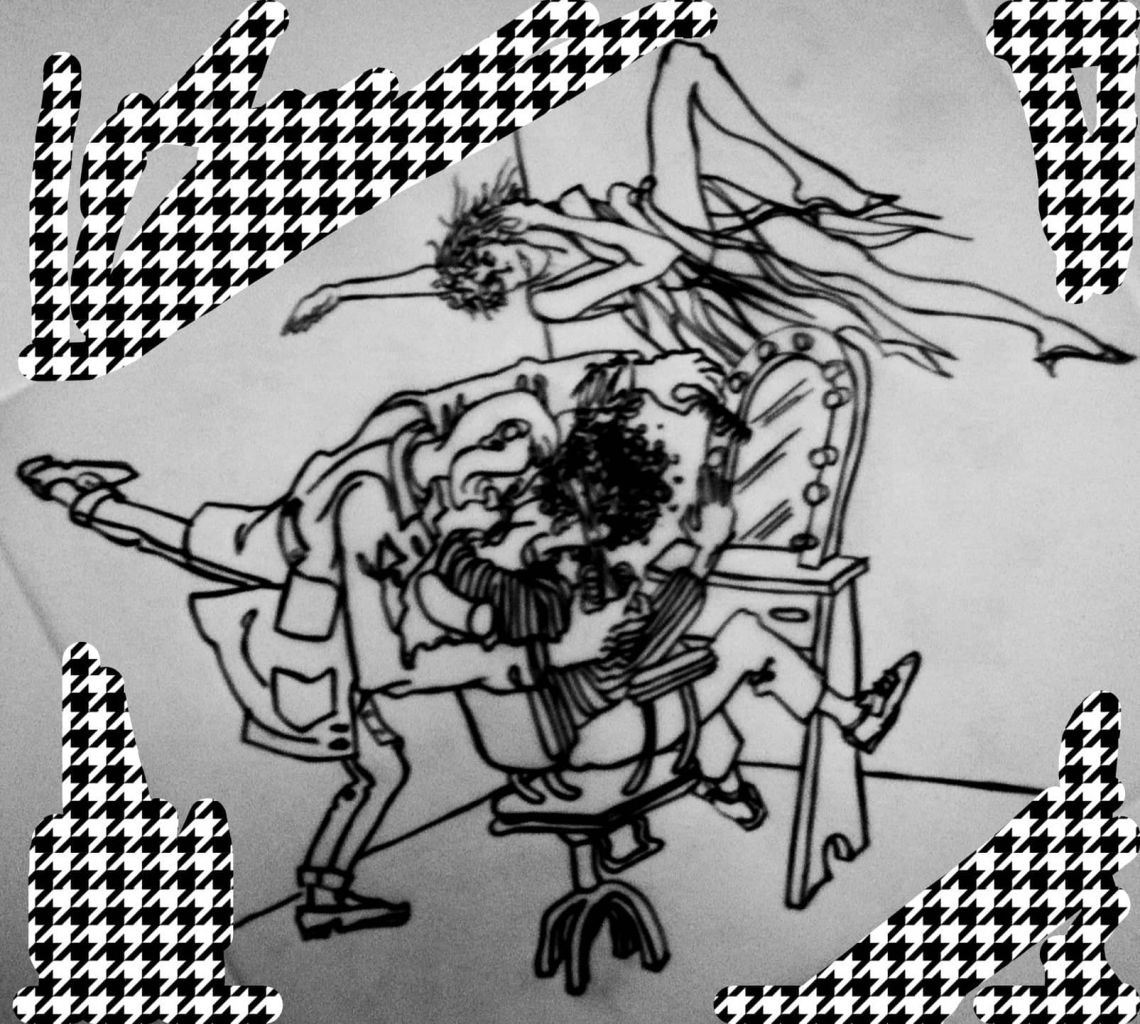
В пятьсот веселом эшелоне. Роман
Детектив. Молодые переселенцы из СССР ищут следы Маяковского и Эйзенштейна в США, а находят...
К сожалению, в настоящий момент нет мероприятий.
-
"В ПЯТЬСОТ ВЕСЕЛОМ ЭШЕЛОНЕ"Глава Первая,в которой мы знакомимся с героями нашего повествования, Илюшей Нежинским и его другом Андреем Филлиповым, и совершаем с ними путешествие в город их детства.Другими словами: в самом начале промелькнувших и растаявших как легкий послеобеденный сон девяностых Илюша Нежинский и Андрей Фазамахер, неcтарые, но уже несколько поистрепанные частыми переменами среды обитания номады, сохранившие, однако, то, что французы, да и американцы тоже, особливо филологи-компаративисты именуют joie de vivre, а одесситы, отступая от характерной для них предрасположенности к броским афоризмам, иногда называют «руки вместе, ноги врозь: камбала, бычки, лосось — вкус непередаваемый, запах незабываемый» и чертят руками в воздухе замысловатые арабески, отправились в город детства навестить родственников и друзей. И тех и других, по их подсчетам, в городе оставалось не так уж и много, и друзья сошлись на том, что трех дней им на все про все за глаза хватит. И хотя у Илюши для путешествия была еще одна веская и даже определяющая причина — четыре года назад пропала его жена Диана, следы которой, как стало ему недавно известно, вели в Россию, а оттуда в Украину, — о настоящей цели поездки Андрею он до поры решил не сообщать. То есть, об исчезновении Дианы, вышедшей из дому за сигаретами во время рождественского обеда в городе Окленд, штат Калифорния и назад не вернувшейся, Андрей в общих чертах, разумеется, знал, и знал давно, но о главной цели поездки, по крайней мере, главной для Илюши, он и не догадывался. Андрей, долговязый седеющий блондин, прозванный в студенческие годы Фазамахером за то, что отец его (“фаза” — искаж. от англ. father), Григорий Анатольевич Филлипов был не только одним из лучших отоларингологов города, но также и "махером", т.е. деловым человеком, причем, дела он ухитрялся делать еще в эпоху зрелого социализма, когда подобный род занятий властями не только не поощрялся, но, напротив, карался по всей строгости закона, так вот, Андрей, выпускник калифорнийской киношколы, а с недавних пор также и бизнесмен, большую часть времени проводил в Москве, где находился главный офис принадлежащей ему с партнерами небольшой оффшорной компании по импорту-экспорту, хотя сам он более десяти лет являлся гражданином Соединенных Штатов. Илюша Нежинский, курчавый, среднего роста шатен и тоже гражданин США, правда, с несколько меньшим стажем, был человеком свободной профессии (фотограф-фрилансер, веб-дизайнер, программист), в Москву наезжал нечасто, и потому все заботы по развлечениям и увеселительным поездкам, как правило, брал на себя Андрей, живущий на два дома, со всеми вытекающими из этой раздвоенности особенностями его личной жизни.Было начало сентября, смеркалось поздно, но к месту назначения друзья прибыли затемно, с задержками. Время в пути за тремя бутылками недорогого немецко-украинского шампанского с золотистым дюком де Ришелье на этикетке, воспоминаниями о минувшей юности и неизбежной жареной курочкой, но уже не в промасленной, как в советские времена, “Правде”, а в фирменном целлофановом пакете “Go, Chicken, Go”, пролетело незаметно; на перрон друзья сошли навеселе; покачиваясь, дотащили чемоданы с подарками до автостоянки. На переднем сиденье рядом с усатым водилой помятого “форда тауруса” возвышалась пышногривая афродита в вельветовой куртке турецкого производства и выдувала тонкие дымчатые кружева из козьей ножки. В городе детства было тихо как в санитарный день в ботаническом. Морской ветер доносил запахи каштанов и акаций.“Благода-ать”, — подумал Илюша, когда машина сворачивала на Екатерининскую, а вслух произнес: “А что, это, пожалуй, не хуже секса”. — “Смотря с кем, и многое упирается в обстоятельства также”, — не оборачиваясь, отозвалась афродита и уткнулась в кожаное плечо водилы. Тот неопределенно хмыкнул. Улыбнулся на заднем сиденье и Андрей — вспомнил свою нью-йоркскую знакомую, перформансистку Хулиетту, сочинявшую хаику на трех языках, включая, как ей иногда казалось, японский.Через пять минут немногословный водила подруливал к гостинице "Лондонская". “А гаишники?” — спросил Андрей, указывая на “кирпич”. “А ну их в яичники!” — буркнул тот и содрал с друзей втридорога, заверив, что берет с них, как с бывших земляков, "по-божески".Наутро, торопливо запив бутерброды с голландским сыром едва теплым растворимым кофе в буфете на втором этаже гостиницы, Илюша отправился в парикмахерскую на Чкалова, где когда-то стригся его дед. Деда в парикмахерской никто не помнил — много все же воды утекло. Один старенький кассир в выцветшей тюбетейке и бирюзовом халате помнил деда. Дед с ним когда-то в шашки в обед играл, десять копеек партия, и всегда проигрывал. "Рублей двадцать заныкал, если не больше, — прошамкал кассир и показал Илюше беспокойный, как у дога, язык. — Старыми, но если считать с процентами..."— А что сейчас Марк Рувимович? Доволен, или шило на мыло вышло? — с нажимом спросил кассир, поменяв местами имя и отчество заокеанского должника.— На данный момент не жалуется, — отвечал Илюша. — Хотя перед смертью сильно ворчал. И то ему не нравилось, и это. И еда в больнице оставляла желать, и Рейган по ящику дурак дураком. Да и сама идея смерти оказалась ему не так чтобы очень близка…— А кому она да близка, чудак-человек! — сказал кассир и, выразив приличествующие соболезнования, стал протирать слезящиеся глаза носовым платком с золотым вензелем ЗВ в уголке.— Скажите, — прервал собеседника Илюша, разом догадавшись по инициалам, кто перед ним, и доставая из бумажника фотокарточку пропавшей жены. — Это лицо вам, случайно, ни о чем не говорит?— А це ж онучка моя Дэаночка, челадой молавек, оба-на, а шейне фейгале, а майне кинделе! — изучив фото, скороговоркой произнес кассир на малопонятном наречии и напрягся так, что плоховыбритый кадык его стал едва заметно вибрировать. — Еще как говорит!— Да вы шутите! — воскликнул Илюша.— Стар я шутки шутить, — и кассир, почесав щетину, неожиданно принялся насвистывать песенку про двух урканов, сбежавших с одесского кичмана, вы должны ее помнить, а чуть погодя, искоса взглянув на Илюшу, строго осведомился:— Что тебе до моей Дэаночки?— Где сейчас она? — ответил вопросом Илюша на вопрос старика.— В Америку исход осуществила прямо со студенческой скамьи, с мужем ебиптологом, итить его мать в один конец на плацкарте. Тоже шлимазл на палочке. Рыбачий. А там на Фокса переиначил. Потом за другого вышла. Вот тебе и вся сказочка за колобок.“Все совпадает!” — мысленно возликовал Илюша.— А я чего-то считал, что она тут где-то, — сказал он.— Индюк вон тоже считал... — отвечал старик назидательно. — Это ж ваша национальная, с тех пор как перерезали всех краснокожих, дичь.— Наша национальная птица — орел, — сдержанно отвечал Илюша, усаживаясь в кресло и снимая очки. — Мне стрижку. Но покороче, если можно.— А подлинней и не выйдет, — сказал кассир, оказавшийся не только кассиром, но также и парикмахером. На вид ему было под восемьдесят, а по рассказам Дианы, насколько помнил Илюша, души в старике не чаявшей, — где-то семьдесят пять. — А брижку?— Гулять так гулять, — улыбнулся Илюша. — Но у меня кожа нежная. Предупреждаю заблаговременно.Идея постричься в городе детства, в парикмахерской, где всю жизнь стригся покойный дед, отчего-то забавляла его.— Будь спок, это ж доктор такой у вас детский есть: Спок, — пробормотал кассир-парикмахер, который, если подумать, много чего знал про Америку. — А ты хто ж будешь онучке моей?— Коллега. Проект у нас общий.Илюша понятия не имел о том, что именно было известно кассиру о сложноступенчатых, со многими бифуркациями и тупиками Дианкиных с ним отношениях. Однако коллегами с пропавшей без вести женой они, пусть номинально, но оставались.— А если так, то должен иметь представление, что она здесь проездом была по роду деятельности, потом в Москву упорхнула, оттуда, кажись, в Калифорнию вашу снова, фейгале, по следам режиссера, что кино “Броненосец “Потемкин” у нас снимал, мой дядя незавидную роль безногого там еще исполнял. Дядя Ваня, фанат футбола, не человек — сидячая энциклопедия спорта.— По Эйзенштейна следам?— Ну не по дядиным же, челадой молавек! — воскликнул старик с нарочитым задором и, не меняя тона, присовокупил: — А на предмет просьбы одной могу я вас потревожить? Зажигалочку дяди Ванину, военного образца передать для коллеги?— Без проблем. Но коллегу найти для начала не худо бы...— Будь спок, челадой молавек. На ловца и зверь бежит, и Дэаночка своевременно обнаружится...— Аа-яауча-уй-ауч!?* * *— Если старик-брадобрей резанул тебе бритвой загривок и тут же полез зализывать, это еще не значит, что он вампир или другой какой хтонический раздолбай. Это еще ничего, Илюша, не значит. Мы с тобой, дружище, не в Трансильвании. Но и здесь также давно не бывали — обычаи здешние подзабыли, — несло Андрея на всех парах коньяка «Ахтамар» в гостиничном номере вечером того же дня. — Однако вместо банального: «откуда же мы в таком случае будем?» слушай лучше сюда. Значит, я сходу ей: а сейчас, теть Тося, мы по-быстрому, в воцарившихся суете и художественном от слова «жест» беспределе застолбим ориентиры: кому здесь предстоит залезть под стол и трижды прокукарекать, но чтоб запомнилось. Вам, теть Тося, но только в случае проигрыша исключительно, и платье умудриться не залить портвейном, и крючочки не повыдергивались чтоб, и чтоб не выпросталась радость нам всем на радость, а вы что ж, вы сразу в позу «дед нюхал майскую розу», сразу дуться буковкой «у», да? Дуться-то как раз и не гоже, теть Тося! По пыльной Москве, июньскими бульварами брели к вашим знакомым шапочным? Икру из баклажанов на кухне ложками зачерпывал хозяин-осветитель? Свитер под мышками порвался у горе-гримера этого, и какую-то глухую согласную, чуть ли не «ч», смешно выговаривал? А наутро в ГУМе гулко допытывался его дядя-товаровед со сплющенным носом боксера среднего веса, он закупать у нас должен был холодильники и стенды-дисплеи, а там и магазин открыть на партнерских началах, чтобы сыры в изобилии, молоко через край, и натуральные соки рекой, но чтобы с охраной и под крышей. Так вот он в лоб мне: ты здесь хрен знает сколько времени, кинок-человек, как у тебя с женским полом обстоит всё? В Нью-Йорке есть кандидат в мастера, ответствовал я участливому губошлепу, имея в виду в Москве, и теть Тосю, у которой снимал в Чистопрудном квартиру, а не в Нью-Йорке и Хулиетту, которая то ли будет, то ли, неизвестно еще, будет ли. А я, значит, из Киева как раз, из командировки. Тоже история. В купе тонкобровый священник приглядывался ко мне всю дорогу, изучал беззвучно, что твой Гамлет Офелию. И вдруг как брякнет, подмигнув, с верхней полки под Энни Леннокс по радио: вы не тутошний, я прав, молодой человек? А у него, оказывается, дочь в Америце то ли за зубным, то ли сама по зубам, и на не тутошних у него глаз огого! Причем, спросил, когда к Киевскому подъезжали уже: «Что ж вы сразу-то не сказали!» А зачем? И кому? Случайному попутчику в сутане? Пусть он лучше случайному мне в трениках рассказывает. И рассказал. Про эвакуацию, про то, как штымп один предложил им купить подводу и лошадей, по тем временам недорого. А вместо этого отцу на работе выделили полуторку, и вот на этой полуторке они решили эвакуироваться. Добрались до Николаева, там на ночлег стали, потом через Варваровский мост, а немцы поджимают уже. А у бати священника, ему десяти еще не было, трамплер из машины слямзили, (не моя лексическая единица — у него заимствованная), или военный патруль позарился, это распределитель, без которого ну, никуда. Но у шофера в багажнике был, как выяснилось, запасной трамплер. И вот, рано утром, обнаружив пропажу, шофер поставил новый трамплер, и они выехали из Николаева в Сызрань, это под Куйбышевым, потом пересели на товарняк, он и повез их в Сызрань, а народу в товарняке — тьма. Вагон назывался пятьсот веселый, хотя номер его был 509-й, такие товарные, знаешь, вагоны, с полками, наспех сколоченными, и условия жуткие, как в коммуналке, но большой. И на полустанках соскакивали, там лесенка еще, говорит, висела, и по этой лесенке спускались, и варили на кирпичах, в кастрюлях, и тут же стирали, и священнику запомнилось на всю жизнь, как какая-то женщина варила в кастрюле обед, ночью пользовала ее как ночной горшок, а утром опять в ней стирала. И бомбежки боялись как чумы, объект-то огромный — поезд! и бежали от поезда, бежали, чтобы бомба их не достала. Так они эвакуировались в Сызрань. А в Сызрани их поселили в клубе, за экраном. На сцене вывешивали белый экран и показывали кино. И кино они смотрели сзади. Люди сидели в зале, а они находились на сцене, поэтому кино они смотрели наоборот, с той стороны экрана. Но не задом наперед, а в зеркальном, получается, варианте. Хорошо еще, знаешь ли, что не вверх тормашками и с узнаваемыми с той стороны экрана актерами. Идентификация — страшная сила, Илюша. Платон не полный кретин. И чувствовал себя пацаненок-священник причастным к процессу, чуть ли не режиссером, чужого, правда, кино, и не про немцев еще, а довоенного, про любовь к пятилеткам под музыку.(продолжение следует)(c) 2020арт: Сузан Бату
-
Категория
Проза -
Создана
Понедельник, 13 марта 2023 -
Автор(ы) публикации
Павел Лемберский

